Клуб чтения поэзии
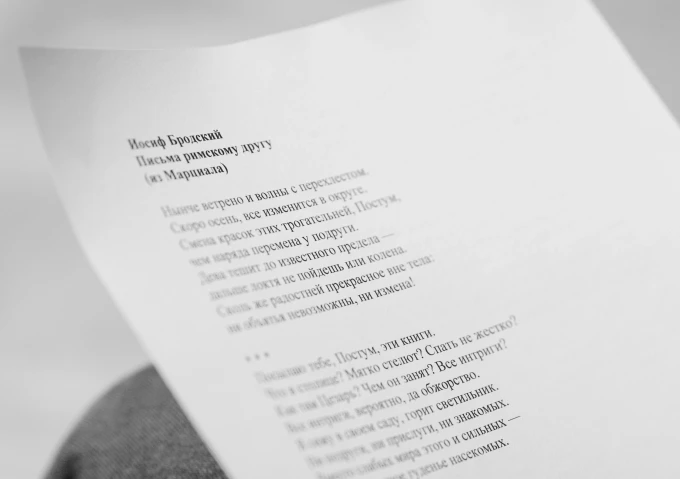
Встречи клуба проходят на втором этаже Исторического корпуса.
1 марта в 17:00 в клубе чтения поэзии будем читать и обсуждать стихи Ирины Одоевцевой.
Ирина Владимировна Одоевцева (настоящее имя — Ираида Густавовна Гейнике) — русская поэтесса и прозаик. Родилась в Риге в семье адвоката Густава Гейнике.
В 1914 году вышла замуж за своего двоюродного брата Сергея Попова.
В 1918 году стала посещать занятия в Институте живого слова, где читал лекции Николай Гумилёв. Перешла в его Литературную студию. Была участницей Цеха поэтов.
Начала публиковаться в 1921 году, взяв псевдоним Ирина Одоевцева (по первому браку в это время — Ираида Попова).
В 1921 году вышла замуж за поэта Георгия Иванова. Их брак длился 37 лет.
В 1922 году вышел первый сборник стихов «Двор чудес».
В августе 1922 года уехала из Петрограда к отцу в Латвию. Осенью 1923 года встретилась с супругом в Берлине, после чего уехала с ним в Париж, где прошла большая часть жизни поэтессы.
В Париже почти не писала стихи, обратилась к прозе. Первые опыты Ирины Одоевцевой в этом направлении получили одобрение Ивана Бунина.
Ее романы «Ангел смерти», «Изольда», «Зеркало» были опубликованы в 1927, 1930 и 1939 годах соответственно.
В начале Второй мировой войны вместе с супругом уехала из Парижа в Биарриц на свою виллу, полученную по наследству от отца, умершего в 1933 году.
С февраля 1955 года семья жила в курортном городке Йер, на побережье Средиземного моря, в пансионе для одиноких пожилых людей, не имеющих собственного жилья, находясь на государственном обеспечении, — там Иванов скончался 26 августа 1958 года.
В 1978 году вышла замуж за писателя Якова Горбова, с которым прожила три года — до его смерти в 1981 году.
В 1987 году Ирина Одоевцева приняла решение вернуться в СССР.
Она была принята в Союз писателей СССР. Ее охотно показывали по телевидению, а переизданные мемуары разошлись тиражом более 200 тысяч экземпляров
Скончалась 14 октября 1990 года. Похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Ведущий — Максим Жуков, автор нескольких сборников стихотворений, лауреат литературных премий.
Специально для встречи мы приготовили подборку, читайте ее по ссылке.
Внимание! Эта встреча предназначена для участников старше 18 лет.
15 марта – Эдуард Лимонов
29 марта – Варлам Шаламов